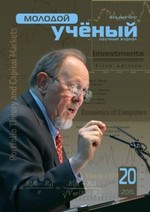Образ солнца в лирике Бальмонта
центральным образом его поэзии стало солнце — светило, никогда не стоящее на месте, по которому люди этой самое время измеряют. Зенита творчество Бальмонта достигает в сборниках начала 1900-ых: «Горящие здания» (1900), «Будем, как солнце» (1903). Мотив горения, солнечного света не оставляет его поэзию и потом; в 1917 г. он создал не знающую себе аналогов в мировой поэзии книгу «Сонеты солнца, меда и луны».
В центре поэтического универсума Бальмонта находятся образы стихий света: огонь, солнце. Солнце только в представлениях людей — образ тепла и света. На самом деле это равнодушная стихия, царящая над миром. Поэт стремится шокировать публику своей демонической позой, «горящими зданиями» (образ, восходящий к «мировому пожару» Ф. Ницше). Автор поет «гимны» пороку, протягивает руку через века римскому императору-злодею Нерону. Эти образы, соседство с великими людьми-огнепоклонниками (Нерон, Ницше) проявляют отношение Бальмонта к миру. Он видит себя выше всех.
Большинство соратников по перу сочли маскарадными «сверхчеловеческие» претензии Бальмонта в его стихах, чуждых «женственной природе» «поэта нежности и кротости».
Разные люди по-разному трактовали символ солнца у Бальмонта. Вячеслав Иванов оправдывал максимализм стихов Бальмонта. Он видел в них желание резкими метафорами подчеркнуть силу неприятия любых правил и норм, стремление «утвердить бытие в крайностях тьмы и света».
Я в этот мир пришел чтоб видеть солнце
Строчка древнегреческого поэта которая позже превратилась в стих
Бальмонта часто называют стихийным поэтом. Оглавление любого бальмонтовского сборника позволяет увидеть излюбленные мотивы поэта: будем как солнце, гимн огню.
И как в великой грезе македонца
Царил над всей землею ум один
Так ты одно царишь над миром солнце
И мировой закатный наш рубин
12 Блока-революционная поэма?
В «Двенадцати» Блок с величайшей страстью и громадным мастерством запечатлел открывшийся ему в романтических метелях и пожарах образ новой, свободной, революционной родины. Верный своим исконным представлениям о «России-буре», поэт понял и принял революцию как стихийный, неудержимый «мировой пожар», в очистительном огне которого должен испепелиться весь старый мир без остатка. Такое понимание Октябрьской революции обусловило как сильные, так и слабые стороны поэмы «Двенадцать». В ней гениально передана оглушившая поэта музыка крушения старого мира. Разумное же, созидательное, творческое начало пролетарской революции, реальное содержание ее социалистической программы не получили в поэме достаточно полного и ясного отражения. Поистине великолепен найденный Блоком сильный, смелый, свежий образ рухнувшего мира: Стоит буржуй, как пес голодный. Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный. Стоит за ним, поджавши хвост. Замечателен сжатостью и энергией своего выражения провозглашенный Блоком чеканный лозунг (сразу же попавший на плакаты): Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг! Но в героях поэмы — двенадцати красногвардейцах, вышедших на смертный бой во имя революции, — как они изображены Блоком, больше от анархической вольницы (тоже принимавшей участие в октябрьских событиях), нежели от авангарда рабочего класса, который под руководством партии большевиков обеспечил победу пролетарской революции. Однако из этого не следует делать вывод, что Блок чего-то недопонял или недоглядел. У него был свой замысел: показать, как вырвавшаяся на простор народная «буйная воля» обретает в революции путь и цель. Доверив «двенадцати» дело исторического возмездия над старым миром, Блок ни в малейшей мере не хотел взять под сомнение искренность и силу революционного порыва своих буйных героев. Вопреки темным и слепым страстям, которые гнездятся в этих людях как наследие рабского прошлого (в этом смысл эпизода с убийством Петрухой Кати), героика революции, борьба за великую цель поднимают их на высоту нравственного и исторического подвига. Такова была мысль Блока, художественно выраженная в «Двенадцати*. Для него эти люди были героями революции, и он воздал им честь и славу — таким, какими их увидел. Ясным и убедительным для первых читателей и слушателей «Двенадцати» оказался в поэме образ Христа, возглавляющего с красным флагом в руках победный марш красногвардейцев (хотя многие идеологи коммунистов этот образ осуждали). Блок исходил при этом из собственных представлений о раннем христианстве как бунтарской силе, сокрушившей в свое время старый языческий мир. Для Блока образ Христа — олицетворение новой всемирной и всечеловеческой религии — служил символом всеобщего обновления жизни и в таком значении появился в финале «Двенадцати», знаменуя идею того нового мира, во имя которого герои поэмы творят свое историческое возмездие над силами мира старого. Блок признавал, что впереди красногвардейцев должен был идти кто-то «другой», но не мог найти иного образа такого же масштаба в том арсенале художественно-исторических образов, которым владел. Но каковы бы ни были намерения поэта, образ Христа все же вносит известный диссонанс в упрощенную революционную музыку поэмы Таким образом, октябрьская поэма Блока — произведение, не свободное от серьезных противоречий. Но большое искусство живет не отразившимися в нем противоречиями сознания художника, а той правдой, которую он сказал (не мог не сказать!) людям. В «Двенадцати» главное, основное и решающее, конечно, не идеалистическое заблуждение Блока, а его ясная вера в правоту народного дела, не его ограниченное представление о реальных движущих силах и конкретных задачах пролетарской революции, а тот высокий революционно-романтический пафос, которым всецело проникнута поэма. «Вдаль идут державным шагом. » — сказано о ее героях. Именно вдаль — то есть в далекое будущее, и именно державным шагом — то есть как новые хозяева жизни. Это и есть идейный центр поэмы. А то, каким это «будущее» окажется, поэт знать не мог. Печать бурного революционного времени лежит на стиле и языке «Двенадцати». В самих ритмах и интонациях поэмы, в напряженности и прерывистости ее стихового темпа отозвался шум крушения старого мира. Новое содержание потребовало и новой стихотворной формы, и Блок, резко изменив свою обычную творческую манеру, обратился в «Двенадцати» к народным, песенно-частушечным формам стиха, к живой, грубоватой разговорной речи петроградской улицы тех революционных дней, к языку лозунгов и прокламаций. Александр Блок мечтал о том, что будущий его читатель («юноша веселый») простит ему «угрюмство» и увидит в его поэзии торжество добра, света и свободы, что он сумеет почерпнуть в его стихах «о будущем» силы для жизни: . есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить. Так и случилось. Как все истинно великое и прекрасное в искусстве, поэзия Блока с ее правдой, искренностью, тайным жаром и магической музыкой помогает и всегда будет помогать людям жить, любить, творить и бороться.
Источник
Образ солнца в стихотворении К. Д. Бальмонта «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце»
Рубрика: Филология, лингвистика
Дата публикации: 15.10.2015 2015-10-15
Статья просмотрена: 14435 раз
Библиографическое описание:
Егорова, А. В. Образ солнца в стихотворении К. Д. Бальмонта «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце» / А. В. Егорова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — С. 593-595. — URL: https://moluch.ru/archive/100/22621/ (дата обращения: 17.06.2021).
Стихотворение К. Д. Бальмонта «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце» появилось в 1902 году, на рубеже XIX и XX веков. В литературоведении этот период принято именовать «серебряным веком». Серебряный век породил существенные изменения в структуре литературного искусства: именно в это время появляются новые течения, в том числе и символизм.
Символизм — направление в европейском и русском искусстве 1870–1910-х годов, которое сосредоточено преимущественно на художественном выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощрённых чувств и видений [7]. В рамках этого направления, будучи старшим символистом, развивался и творил К. Д. Бальмонт. Одной из составляющих художественной картины мира К. Бальмонта является обращение к природным стихиям, стремление передавать их в символах.
Многие поэты обращались к литературной критике К. Бальмонта: В. Брюсов, М. Цветаева, И. Анненский, З. Гиппиус. Такие литературоведы, как Н. Банников, Л. Озеров занимались изучением его творчества ещё при жизни. Однако, и сегодня, спустя более ста лет, исследования творчества поэта актуальны для литературоведения. Одной из современных тем исследования творчества К. Бальмонта является изучение образа солнца как центрального в его поэзии.
В мировой культуре солнце понимается, в первую очередь, как основная созидательная сила и как центр, сердце, средоточие интуитивного знания, сила чувства и веры, способность ощущать и силу воображения. В языческих верованиях мира солнце воспринимается как верховное божество, как воплощение его всепроникающей власти. Как источник тепла, солнце представляет жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость. Являясь источником света, солнце символизирует разум и знания. Солнце символизирует жизнь и смерть, а также обновление жизни через смерть. В христианском образном мире восходящее Солнце является символом бессмертия и воскресения [5].
Особый интерес к образу солнца возник на рубеже XIX—XX веков. Тема солнца привлекла А. Белого («Золото в лазури», 1904), М. Горького («Дети солнца», 1905), В. Иванова («Солнце-сердце», 1905–1907), В. В. Маяковского («Солнце», 1923), А. Крученых («Победа над солнцем», 1913) и др.
Своеобразным солнцем символизма, созидающей его силой, было и творчество К. Бальмонта. В. Брюсов высказывался о нём так: «Когда над русской поэзией восходило солнце поэзии Бальмонта, в ярких лучах этого восхода затерялись едва ли не все другие светила…» [8, с. 9]. Для К. Бальмонта поэзия, в целом, представляла собой утонченный способ для выражения чувств и мыслей. Его произведения — это, буквально, богатейшая копилка переменчивых чувств, настроений, «радужная игра» красок мира, поэтому неудивительно, что они настраивают читателя на волну сопереживания, восприятия всей красоты мира.
Как было отмечено ранее, идеалом красоты мира для поэта является солнце, ему посвящено немало возвышенных строк. Бальмонт писал: «Ход вещей этого мира предопределён Солнцем, и ещё в младенческие свои дни я доверчиво предал свой дух этому Высокому Светильнику…» [1, с. 459]. Уже во многих названиях поэтических сборников Бальмонта прослеживается образ солнца: «Будем как солнце. Книга символов» (1903), «Сонеты Солнца, мёда и Луны» (1917, 1921), «Солнечная пряжа. Изборник» (1890–1918), «Светослужение» (1937).
В цикле «Будем как солнце…» 26 стихотворений, в восьми из которых встречается образ солнца: «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце», «Будем как солнце! Забудем о том», «Воздушный храм», «Голос заката», «Рассвет», «Гимн огню», «Двойная жизнь», «С морского дна», «Завет бытия». Но центральным, неслучайно поставленным первым, стихотворением этого сборника, своеобразным дифирамбом солнцу и поэтическим манифестом творчества поэта является стихотворение «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце» [6].
Эпиграфом к данному стихотворению служат слова древнегреческого философа Анаксагора [2, с. 10]. Это изречение в качестве анафоры встречается в стихотворении дважды: в первой и последней строфах. Перед Анаксагором открылось величество Вселенной, вобравшей в себя все закономерности жизни, где малое и великое равноценны. У Бальмонта эта космическая стройность воплощена в образе Солнца.
В многозвучной поэзии К. Бальмонта заключается торжество впечатлений, наслаждение от созерцания природных богатств, многоцветье тонких ощущений, сменявшихся зыблющимися душевными состояниями. Лирический герой Бальмонта счастлив, что пришёл в этот мир. Ему дан шанс созерцать «солнце и выси гор», «море и пышный цвет долин». У него есть шанс не просто восхищаться красотой земли, он способен ее воспевать. Таким образом, он служит главному источнику жизни, которым является солнце. Он творит и славит бескрайний мир и этот прекрасный мир принадлежит ему:
Я заключил миры в едином взоре.
Я властелин. [3, с.125]
Солнце в христианской символике является воплощением бессмертия и возрождения. Лирический герой страдал, но «победил холодное забвение», в котором не было солнечного света и тепла. «Холодное забвение» здесь поиск смысла жизни, один из лейтмотивов в творчестве Бальмонта [6]. Для героя Солнце стало источником очищения духа и путем к совершенной жизни, прозрения. Создав свою мечту, герой словно ожил — им разгадан непостижимый замысел мироздания. Человек существует только в данное мгновение, в нем выявляется вся полнота его бытия. Теперь он готов воспевать каждый прожитый миг, ибо в нем истина:
Я победил холодное забвенье,
Создав мечту свою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою. [3, с.125]
Страдания, трудный поиск истины пробудили мечту лирического героя. Обретя истину, он отдается каждому мгновению и живет в нем в своем творчестве.
В статье «Солнечная сила» Бальмонт писал: «Солнце — гений превращения. И самое, быть может, красивое в Солнце то, что оно умеет ярко говорить через других» [1, с.460]. Как высшая сила, Солнце является источником поэтического вдохновения. Разгадав великий замысел бытия, герой словно перерождается — он посланец солнца в земной мир. Теперь, когда певец свободен от страданий, он осознает мощь и значимость своего слова. Герой рад своему возрождению. Он не желает останавливаться на пути к большему самопознанию, идет все выше и выше и ему нет равных в «певучей силе»:
Мою мечту страданья пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто. [3, с.125]
Солнце служит символом цикла человеческой жизни. Лирический герой не огорчается уходу солнца, его не страшит ночная тьма. Певец считает, что восхвалять в своих песнях солнце — его жизненное предназначение. Он поет для солнца даже «в предсмертный час». Он знает, что настанет новый день и возникнет новая жизнь. «Всякое разрушение ведёт лишь к новому творчеству» [1, с. 460], — писал Бальмонт. Лирический герой понимает, что человек часть безграничного мироздания, в нём сокрыта солнечная сила: из её сочетаний добра и зла он извлекает свою мысль и мечту, создаёт гармонию из хаоса [1, с. 456]. И даже если символ жизни погаснет, и Вселенная в привычном образе перестанет существовать, Певец сможет возродить мир собственным творчеством, полным энергии, чистоты и света.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь. Я буду петь о Солнце
В предсмертный час! [3, с.125]
Таким образом, стихотворение К. Д. Бальмонта «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце» раскрывает лирическое сознание поэта, важной частью которого является поиск человеческого предназначения, его места во Вселенной и, главное, смысла жизни.
К. Бальмонту удавалось угадывать истинную сущность каждого мгновения, он понимал, что от «самого ничтожного есть переход к самому великому» [4]. В данном стихотворении образ солнца как символ жизни и истинного знания помогает осуществить лирическому герою этот переход. Эти мгновения присутствуют в жизни каждого человека. Именно на это поэт хотел обратить внимание читателей.
Солнце является главным символом многих стихотворений поэта. Этот образ в творчестве Бальмонта во многом соответствует мировому символическому пониманию солнца, в первую очередь, как источника разума, цикла человеческой жизни и возрождения. Солнечная сила представляется как прозрение и вдохновение, что является важным для автора.
Образ, созданный Бальмонтом, ориентирован не столько на земное восприятие дневного светила, сколько на понимание высшей созидательной силы. Символ направлен в просторы космоса, в вечность. Солнце может видеть всю Вселенную, оно есть сердце мироздания, с которым связан и сам человек.
Источник