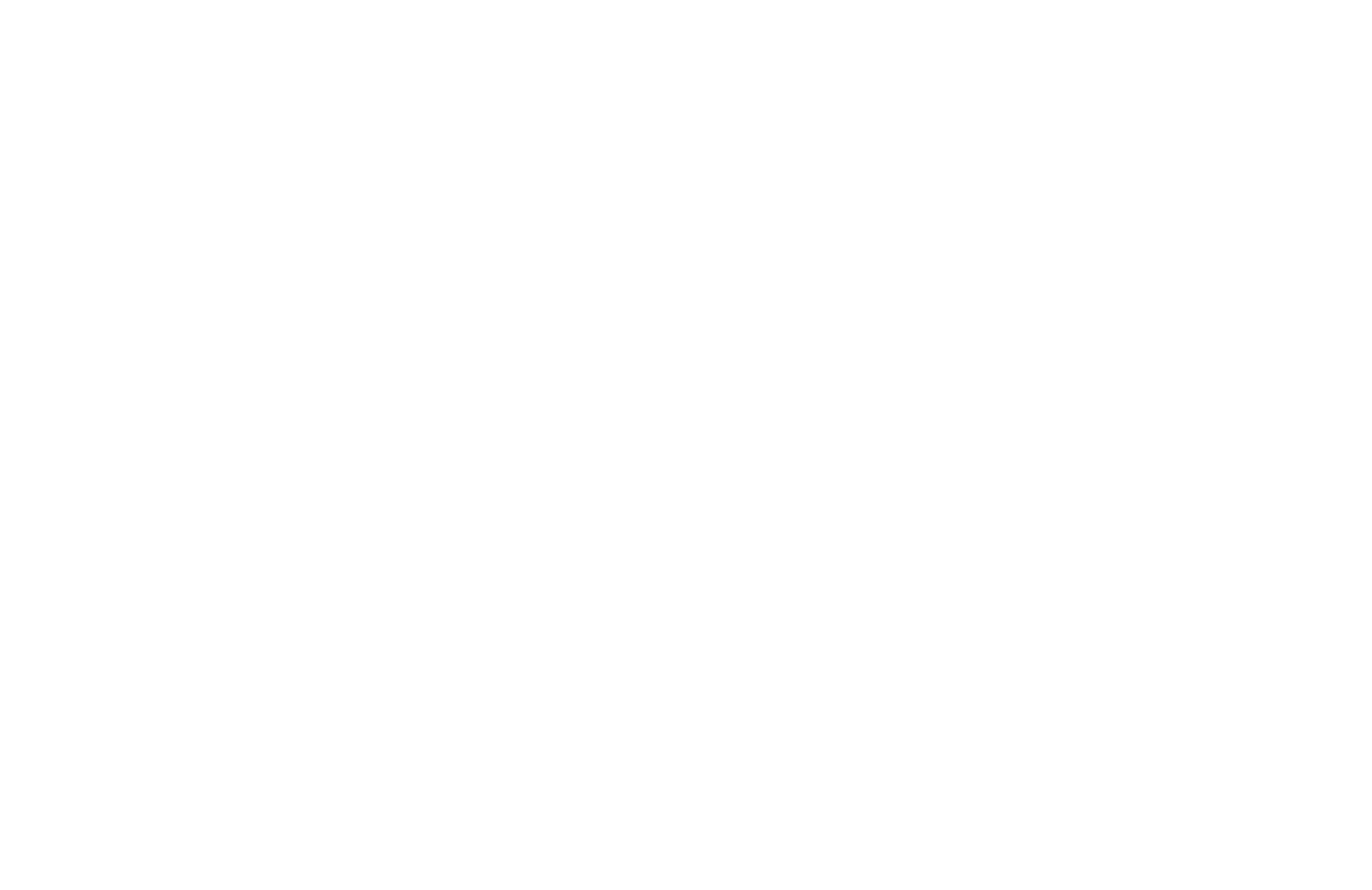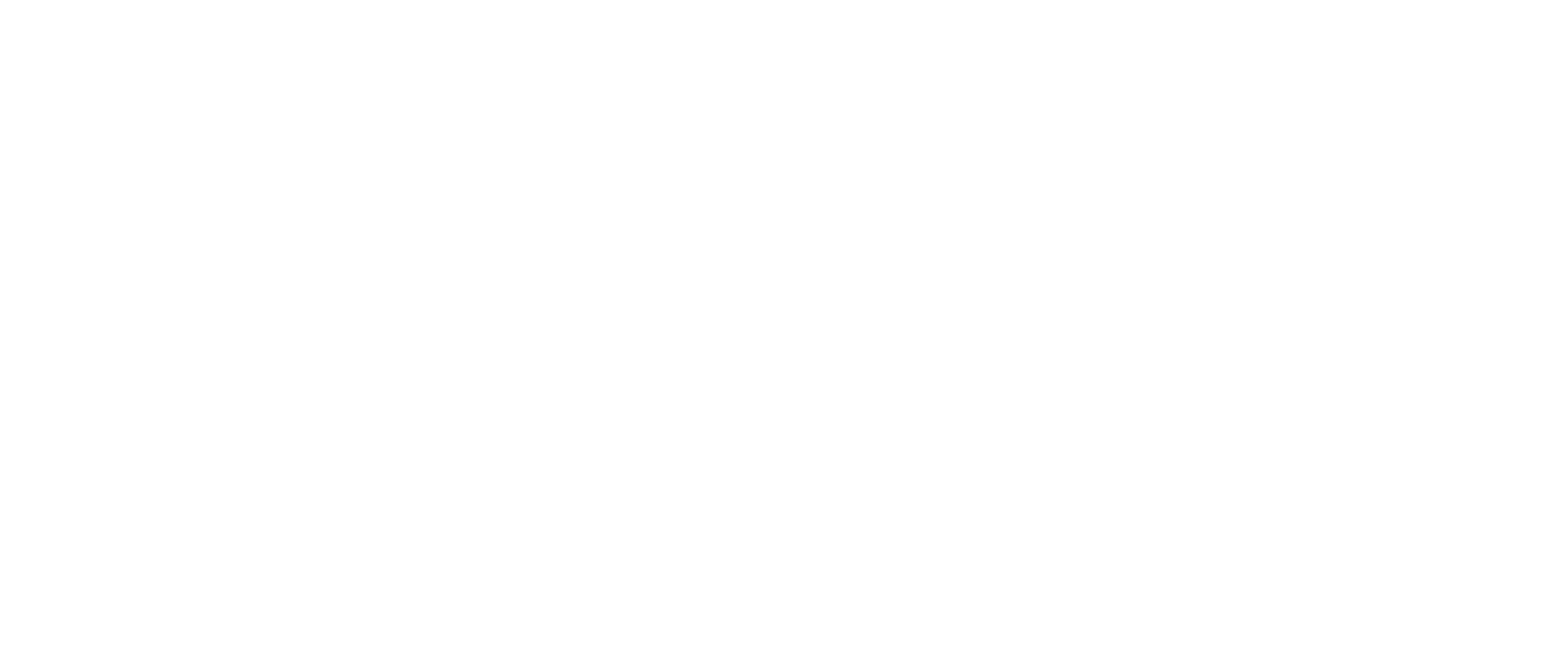«Чему посвящена сказка-быль «Кладовая солнца»»
Жизнь Пришвина была типична для русского человека, который пережил три войны и революцию. Судьба М. М. Пришвина это характерная судьба русского человека именно потому, что почти всегда истинная жизнь его проходит в тени. Она никогда о себе не заявляет громко и в то же время присутствует каждое мгновение в слове писательском. Каждая фраза, даже каждое слово у Пришвина, как в стихах, несет большую смысловую нагрузку. Это такая мудрая поэзия в прозе. В ней нет назиданий, но есть родствен ное, целомудренное внимание ко всему, и к человеку прежде всего: ты голоден я тебя накормлю, ты одинок я тебя полюблю.
Все у писателя мир, природа, человек в общей совокупности и составляет красоту жизни, которую необходимо отстаивать, борясь со злом в любых его проявлениях. Именно этой теме была посвящена сказка-быль «Кладовая солнца». В ней мы встречаем знакомые приметы народной русской сказки, начиная от сказочного пейзажа, разговоров птиц, животных и кончая счастливой развязкой с победой добра над злом. И в то же время это повесть, которая расширяет наши знания о жизни. Читая эту книгу, мы узнаем о бондарном ремесле и о целебных свойствах клюквы, о значении леса для человека и о том, как охотник устраивает облавы на волков, и какие повадки у зайца и лисицы, у волка и у тетерева, почему надо, особенно на болоте, держаться твердой тропы и что собой представляют большие торфяные болота. Многое, о чем пишет в своих произведениях Пришвин, не фантазия.
В основу всего его творчества положены действительные события, собственные наблюдения и впечатления. «Нигде в мире нет такого замечательного языка, как русский, писал Пришвин. Вот возьми, например, слово «Родина», Сколько слов с тем же корнем: родина, род, родственники, родимый, родник, родничок, родственный, родственное внимание…» Пришвин один из своеобразнейших писателей. Он ни на кого не похож ни у нас, ни в мировой литературе. Горький о нем писал: «Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармоничного сочетания любви к Земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у Вас».
И еще: «Отлично знаете Вы леса и болота, рыбу и птицу, травы и зверей, собак и насекомых, удивительно богат и широк мир, познанный Вами». Слово Пришвина необыкновенно современно, особенно в трагические моменты нашей жизни, на переломе, хотя кажется, что творчество Пришвина довольно благополучно: писал он о природе и известен как певец природы, но думать так то же самое, что, входя в лес, быть уверенным, что он только для отдыха и предназначен. А ведь жизнь природы идет по своим мудрым глубинным законам. Для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе вода, птице воздух, зверю лес, степи, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу значит охранять родину. Творчество Пришвина это как заново рождающийся, вновь услышанный нами звон, который идет сейчас все шире и шире. В такой трудный час нашей жизни слово Пришвина звучит все громче и громче. Он пережил тяжелейшие исторические катаклизмы и всетаки служил вечному.
После смерти родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Дети заботились обо всех живых существах. Настя занималась женскими домашними делами, «с хворостинкой в руке выгоняла она свое любимое стадо, растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи», На Митраше лежало все мужское хозяйство и общественное дело. «Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы». Так дети жили дружно, не зная горестей и бед.
Однажды решили они пойти в лес за клюквой. «Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью». Вспомнив о том, что есть такое место, называемое палестинкой, «вся красная, как кровь, от одной только клюквы», Настя и Митраша отправляются в лес. Взяли они с собой самое необходимое. Настя положила в корзинку хлеба, картошки, бутылку молока. Митраша взял топор, двуствольную «тулку», сумку с компасом. Зачем же он берет компас. Ведь в лесу можно ориентироваться по солнцу, как это делали деревенские старожилы. «Мужичок в мешочке» хорошо помнит отцовские слова: «В лесу эта стрелка тебе добрей матери: …небо закроется тучами и по солнцу в лесу ты ориентироваться не сможешь, пойдешь наугад ошибешься, заблудишься…».
Кто знал, что дети столкнутся с природной стихией и воочию увидят Блудово болотоПройдя полпути, Настя и Митраша сели отдохнуть. «Было совсем тихо в природе, и дети до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания». О Блудовом болоте ходила легенда, что «лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня…» С тех пор ель и сосна растут вместе. И ветер иногда качает эти деревья. И тогда ель и сосна стонут на все Блудово болото, словно живые существа.
После отдыха дети решили идти дальше. Но не тут-то было, «довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой». Что же делать. Проявив свой упрямый характер, Митраша идет по слабенькой тропе, а Настенька по плотной. Вдруг рванул ветер, и сосна и ель, нажимая друг на друга, по очереди застонали, как бы поддерживая спор брата и сестры. «Среди звуков стона, рычанья, ворчанья, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто гдето горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок». Даже волк в это время вылез из своего логова. «Он стал над завалом, поднял голову, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл».
Как и всякая сказка, сказка-быль М. М. Пришвина имеет счастливый конец. Митраша изза своего упрямства оказался на Блудовом болоте. И в борьбе за жизнь ему помогла собака Травка. А что же НастяОна, увлеченная сбором ягод, на некоторое время забыла о брате, «еле передвигает за собой корзину, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ножках».
Под вечер голодный Митраша и уставшая Настя встретились. Им суждено было встретиться вновь в лесу и продолжить свой путь вместе, как уже двести лет «живут» на Блудовом болоте ель и сосна.
Источник
Кладовая солнца кому она посвящена
«Верно судить о писателе можно только по семенам его, понять, что с семенами делается, а для этого время нужно и время. Так скажу о себе, что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель… – записал однажды в Дневнике Михаил Пришвин.
Действительно, его произведения не на слуху: «Кащеева цепь», «Мирская чаша», «Черный араб», «Жень-шень»… – не растеряется только читатель Пришвина. Но «Кладовую солнца», включенную в школьную программу, знают почти все. Потому мы и решили о ней поговорить.
Мелькнул сюжетик для рассказа детям о лесе. Тиль-тиль и Митиль. В лесу. Тропинка расходится вилочкой. Поссорились в споре, по какой идти домой. Рассказ начинается описанием этих тропинок. Вечный спор – и дети заспорили. И пошли. Одна глава: переживания Тиля, другая – Митиль. Конец: обе тропы сливаются в одну.
«Кладовая солнца» далека от волшебной сказки – но в ней имеется ряд реликтовых признаков традиционного сказочного жанра: росстань, развилка – выбор пути, один из которых ведет к погибели; поиск места, «где никто не бывал», путь к которому неизвестен; болотные елочки своей формой и птицы своим криком, предостерегающие от беды; его гибель, спасение, подвиг, победа и явление героя.
Важную роль в сказке-были играют мифологемы ветра и воды: деструктивная роль ветра ограничивается безразличием к происходящему – ветер равнодушно разносит по Блудову болоту птичьи крики, вой волка и собаки, крик Насти; иное вода: по болоту с гибельной Слепой еланью проходит граница жизни и смерти.
Мир Блудова болота наполняется жизнью, которая выражается во взаимоотношениях человека и природы, что и становится сюжетом сказки-были. Сюжет строится как последовательность событий в жизни не отдельных персонажей, а мира в целом: мифологическая связь всего со всем создает особую атмосферу, особую атмосферу, в которой оказались Митриша и Настя.
Значение литературной (философской) сказки в культуре, начиная с последней трети 18 века общеизвестно – интерес писателей к сказке, написанной одновременно и для детей и для взрослых, от «Черной курицы» до «Синей птицы», «Маленького принца» и далее к сказкам советских и зарубежных писателей ХХ и ХХ1 века, продолжает расти. В русле культурной традиции литературы ХХ века* Пришвин «задался целью написать современную сказку» со сказочным содержанием настоящего дня.
* «Метареализм (metarealism) – художественно-интеллектуальное течение 1970-х–1990-х гг. в России То, что в искусстве обычно называют «реализмом», – это реализм всего лишь одной из реальностей, социально-эмпирической. Метареализм –реализм многих реальностей, связанных непрерывностью метаболических превращений. Есть реальность, открытая зрению муравья, и реальность, открытая блужданию электрона, и реальность, свёрнутая в математическую формулу, и реальность, про которую сказано: и горний ангелов полёт. Метареальный образ, метаморфоза, метабола –способ взаимосвязи всех этих реальностей, утверждение их растущего единства. Метареальный образ не просто отражает одну из этих реальностей (зеркальный реализм), не просто сравнивает, уподобляет (метафоризм), не просто отсылает от одной к другой посредством намёков, иносказаний (символизм), но раскрывает их подлинную сопричастность, взаимопревращение, достоверность и неминуемость чуда. «Я знаю кое-что о чудесах: они как часовые на часах» О. Седакова.
Чудеса блюдут законы иной реальности внутри этой, образ становится цепью метаморфоз, охватывающих Реальность как целое, в её снах и пробуждениях, в её выпадающих и связующих звеньях. Приставка «мета» прибавляет к «реализму» то, что сам он вычитает из всеобъемлющей Реальности». Эпштейн М. Дар Слова №122(175).
Возможно, когда-нибудь сказка Пришвина займет место среди произведений других писателей, бывших предтечами особого направления в литературе, которое теперь назвали метареализмом. Пришвин «задался целью написать современную сказку» со сказочным содержанием настоящего дня.
«Кладовая солнца» начинается былью – описанием трудной жизни Митраши и Насти в годы войны. Осиротевшие дети, стараясь вести себя в точности как некогда мать и отец, справляются со своим большим хозяйством, и в дружбе их царит «прекрасное равенство». Их жизнь просто и органично связана с природой. Однако полученный в наследство от родителей и принятый как простая и ясная истина образ жизни не выдерживает испытания, возникающего, как только дети покидают привычный, до мелочей знакомый, устроенный родителями домашний мир и попадают в Блудово болото. Тут и начинается сказка.
По пути в разговоре с Настей Митраша то и дело вспоминает отца: каждая его реплика начинается словами «отец говорил». Митраша идет по болоту уверенно, будто не один, а с отцом. От отца он все знает, и в словах «отец говорил» для него заключена истина, не требующая никаких доказательств. Настя, напротив, чувствует себя беззащитной и слабой перед «неминучей силой погибели» в болоте.
Природа встает перед ними в своей могучей силе. Все в этом мире живет единой жизнью: стон сплетенных деревьев вызывает отклик собаки, лисицы, волка и зайца – ветер разносит по Блудову болоту их вой, «ему все равно, кто воет». Это ветер замутил прекрасное утро, когда все живое с напряжением ожидает восхода «великого солнца». Природа принимает Митрашу и Настю: «Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку». Они оказались не просто в лесу, а в особом мире Звонкой борины, которая впустила их в жизнь, здесь совершающуюся, и отныне каждый их поступок связывается с реальностью более значительной, чем реальность их прежней, обыденной жизни. Ведь даже великое солнце «со всеми его живительными лучами» закрылось серою хмарью», когда дети, поссорившись, разделились и пошли каждый своей тропой.
Чередование событий в природе соответствует развитию спора между детьми, и это ритмическое соответствие свидетельствует о единстве жизни, подтверждая реальность той связи, которая возникла между детьми и природой. Солнце скрылось, ветер рванул, застонали сплетенные друг с другом деревья, ворон догнал и долбанул косача, а мы чувствуем: что-то случится у этих маленьких людей, – вернее, уже случилось: Митраша и Настя, разделенные разным отношением к отцовским словам, разошлись и разными тропами пошли вглубь Блудова болота.
В «Кладовой солнца» сюжет был: брат и сестра пошли в лес за клюквой, их тропа в лесу разделилась, дети заспорили, поссорились, разошлись. Вот и все. Остальное навернулось на этот сюжет само собой во время писания.
Сказку я понимаю в широком смысле слова как явление ритма, потому что сюжет сказки есть не что иное, как трансформация ритма. Я это могу иллюстрировать из своего опыта создания сказки «Кладовая солнца». Когда застонали деревья, все части расположились как металлические опилки под полюсом магнита сказку, не подчиненную поэтическому ритму, я исключаю
В споре о том, каким путем идти им за клюквой, Настя говорит так: «Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами. И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки». В словах девочки сказка – просто заманчивый вымысел, который не имеет отношения к реальной жизни. Но в памяти Митраши слова отца о палестинке совсем другие: «Держите все прямо на север и увидите – там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал». В этих словах угадывается тайный наказ отца свои детям: «идите все прямо», «там придет вам палестинка» – придет? как награда? как чудо? и так важно, что на ней «еще никто не бывал». Может быть, отец-то говорил просто о клюкве, но у Митраши это осталось как мечта. Тут и трудный путь – Слепая елань, где погибло много «и людей, и коров, и коней»; тут и «чудесная», как называет ее Митраша, палестинка: непременно дойти, достигнуть этим путем, а не той тропой, «куда все бабы за клюквой ходят». «Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил», – говорит Митраша. «Достигнуть» становится даже не мечтой, а долгом, который ставит перед собой сам человек.
Дважды на своей тропе должна была бы вспомнить о Митраше Настенька: когда заблудилась – о Митрашином компасе, и как только неожиданно вышла на ту самую палестинку. Но вопреки их прежней дружбе – то есть вопреки законам обыденной реальности, вопреки всему вековечному, глубокому, родовому, что связывало ее с братом – не вспомнила: ее душа незаметно слилась с жизнью самого леса, где каждый живет сам для себя. Настя ползет по болоту, собирая клюкву, «вся мокрая и грязная – прежняя Золотая курочка на высоких ногах». В осиннике лось спокойно обирает осинку и не пугается девочки, смотрит на нее, как на всякую ползающую тварь, и за человека ее не считает. Лось не узнал в ней человека, а собака Травка не узнала в ней своего хозяина – лесника Антипыча, которого она ищет, пытается узнать в каждом человеке и который, в ее понимании, «вовсе не умирал, а только отвернул от нее лицо свое». Не узнала, хотя из корзинки так заманчиво пахло картошкой и хлебом.
Неожиданно дернув клюквенную плеть у пня, на котором лежала огромная ядовитая гадюка, Настя вдруг очнулась. Ей представилось, что «это она сама осталась на пне и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она». Увидев полную клюквой свою корзину, она все вспоминала: «брат голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг», – снова посмотрела на гадюку и пронзительно закричала: «Братец, Митраша!»
Лирическое отступление-притча проливает свет на происходящее: «Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память обо всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь к сестре на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости! Ты бы, ворон, сказал им…»
В этой маленькой притче скорбь о какой-то потере в природе, вызов личности, преодолевающей родовую память, ожидание небывалого усилия: «ты бы, ворон, сказал им» – ожидание слова. Последняя фраза обрывается. «Дрон-тон» – «урви чего-нибудь» – перекликнулись вороны, погасла притча, но остался ее ясный смысл: невозможно было «бедной Насте» вспомнить о брате, она еще раньше, не веря в «чудесную палестинку», что-то очень важное в себе потеряла. «Очень даже будет глупо нам по стрелке идти – как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим», – говорит она. Но слова девочки вовсе не кажутся верными после Митрашиных слов об отцовской палестинке. А отцовские, сказочные, живые, действуют, определяя поступки и Митраши, и Насти.
Что же так страшно предстало Настеньке в облике ядовитой гадюки? Что с ней произошло и что значит «забыла сама себя и все вокруг»? Может быть, то неверие в палестинку, которое пустила в свою душу девочка, так далеко увело ее и разделило с любимым братцем Митрашей? И вот теперь она опомнилась, увидела свою душу без любви и ужаснулась. Нет, стать прежней Золотой курочкой невозможно: свет притчи о вороне, вызывающий личность к действию, коснулся девочки: любовь требует личных усилий, и к естественному, само собой разумеющемуся родовому чувству просто так уже не вернешься.
Так один за другим нарушаются и перестают действовать, как оказалось, весьма условные законы повседневной реальности. Их вытесняют и начинают парадоксально действовать, создавая иную реальность, законы совсем другие, связанные с глубиной жизни, с ее смыслом, с тайной личности.
Действие сказки разворачивается в двух мирах: хронотоп реальной жизни Митраши и Насти с очевидностью вытесняется сказочным хронотопом. В самом деле, всего несколько часов прошло с тех пор, как дети ранним утром вошли в лес, но Настя прожила огромное, неизмеримое часами время, и именно оно становится реальным: вечность промелькнула между тем мгновением, когда Настя говорила, что отцовской палестинки вовсе нет, и моментом, когда она на этой палестинке закричала «Братец, Митраша!» Обнаруживается сказочный гиперболизм времени (Бахтин): с временем что-то происходит – оно пролетает и одновременно растягивается, так как вмещает совершенно новые смыслы. И для Насти, и для читателя, астрономическое время исчезает.
Реальность иного, неизмеримого часами времени связана и с Антипычем. Он существует в сказке-были только в памяти Травки и в воспоминаниях геологов, от имени которых и ведется рассказ. Но Травка ищет Антипыча, для нее он «не умирал, а только отвернул лицо свое»ей нужно и можно его найти.
Одинокий старый лесник и его собака Травка, единственный верный друг, которому он «перешепнул» слова о «большой человеческой правде». Умирая, не человеку, а собаке доверил он нести эти слова как главную нажитую им мудрость, и можно лишь предполагать, догадываться, что это были за слова. Так с интонацией предположения и догадки они и появляются в сказке. Как обещал геологам, так и сделал: «И мы думаем: эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь».
Эти слова структурируют мир Блудова болота: с одной стороны «большого полукруга» Блудова болота несется «печальный плач», «живой стон», «призыв к себе нового человека», «собачья молитва» Травки; с другой – вой волка Серого помещика, злейшего врага человека. Мир Блудова болота становится ареной борьбы добра и зла. И в душах двух маленьких детей, Митраши и Насти, идет невидимая борьба «за единство самого человека» – всечеловека, который «всегда глядит через каждого», «переливается во всем своем разнообразии», порой собирается в одном лице – и «тогда забудешь о времени, и как будто в этом лице весь-человек». Именно так и происходит – весь-человек собрался в лице Антипыча, и время исчезло.
Источник