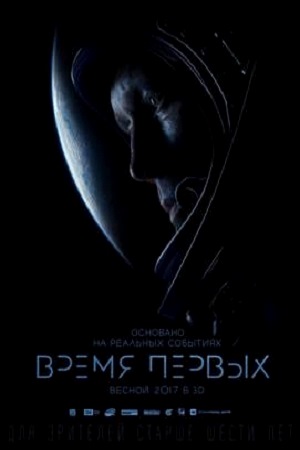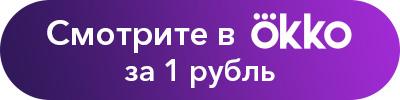Время первых (2017)
Регистрация >>
В голосовании могут принимать участие только зарегистрированные посетители сайта.
Если вы уже зарегистрированы — Войдите.
Вы хотите зарегистрироваться?
информация о фильме
последнее обновление информации: 11.04.21
Премия «Золотой орёл» (2017):
Лучший актер (Евгений Миронов)
Лучший актер второго плана (Владимир Ильин)
Лучшая музыка (Юрий Потеенко)
Лучшие визуальные эффекты
Номинация на премию «Золотой орёл» (2017):
Лучший фильм
Лучший звукорежиссер
трейлер >>
критика
О съёмках этого фильма было известно давно. Говорилось, что за кинопроект взялись такие «тяжеловесы» как Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов. Правда, жизнь не раз доказывала, что грандиозность замысла и прожженные профи – ещё не гарантия хорошего кино. А выбранная тема, как легко догадаться, таила множество подводных камней: начиная с задачи технической – создание эффекта невесомости, до задачи художественной – перевод документального материала на язык кино. Дополнительную сложность придавало то обстоятельство, что главный герой фильма – космонавт Алексей Леонов – не просто жив и здоров, а ещё и выступает консультантом проекта. Постановщикам предстояло быль превратить в легенду.
Первая сцена подарила сильный аргумент в пользу авторов фильма, в частности, что режиссёр Дмитрий Киселёв (режиссёр фильма «Ёлки-1914» и сорежиссёр «Чёрной молнии») умеет мыслить крупной метафорой. Начинается фильм с красиво снятой сцены – с поэтического образа, из мира детства. Пятилетний Алёша Леонов бежит по ночному полю среди трав и светлячков, но вот земля опрокидывается, пацанёнок отрывается от тверди, зависает в пространстве между земной колыбелью и звёздным космосом. Эта тема с разными вариациями не раз повторится в фильме.
Главный сюрприз фильма – актёр Владимир Ильин в роли генерального конструктора. Зритель давно привык к Сергею Королёву как к монументальному историческому лицу из кинохроники: крупный, с большой головой и широкой грудью человек. В облике Королёва виделось что-то исконно богатырское – и это соответствовало грандиозности задач, которые решал его организаторский гений. В сыгранном Ильине генеральном конструкторе остались покатые плечи, но фигура стала приземлённой, будто земная гравитация давит на него сильнее, чем на окружающих. Красные от недосыпа глаза на усталом, почти сером лице, говорят всё время об одном – «надо успеть, надо успеть». Собственно, уже первое появление Королёва в фильме пронизано этой мыслью: конструктор приезжает в цех сборки ракеты, шагает к стенду с графиками, там он зачёркивает намеченные даты «1966» и «1967» и жирно обводит новую – «1965». Нельзя позволить американцам нас опередить, первый выход человека в открытый космос должен быть наш!
У Владимира Ильина бывали разноплановые, пёстрые роли: жулики, милиционеры, частные сыщики, врачи, пациенты, военноначальники, включая полководца Кутузова. Но все они сливались с естественной органикой актёра – с округлостью фигуры и живостью характера. Конструктор Королёв в его исполнении потребовал эту самую органику усмирить, примерить пиджак со своего богатырского плеча. Присущая актёру суетность движений испарилась, взамен появилась замедленность, даже застылость, которая говорит о возложенном на героя пудовом грузе ответственности. Артист сыграл блестяще, но меня не покидало чувство, что вижу я не Королёва, а переодетого актёра Ильина. Эффекта полного перевоплощения не произошло – слишком очевидна разница между человеком из кинохроники и актёром.
Евгений Миронов лет двадцать как вышел из возраста своего героя. Это обстоятельство недовольные зрители успели поставить в минус, дескать, а почему снова Миронов? Дорогу молодым! Тем не менее, в роли тридцатилетнего Алексея Леонова он вполне органичен. У актёра и его прототипа действительно есть нечто общее не только в лице, но и в характере – какая-то озорная хитринка, не дающая спокойно жить ни себе, ни окружающим. Оба – подвижные натуры, умеют расположить к себе, быстро сойтись с людьми. И то, что прототип и актёр нашли друг друга, по-моему, удача фильма. Другой вопрос, что чисто актёрского открытия на этот раз у Евгения Миронова не случилось – где-то мы уже видели его таким. Что-то он взял от наивного романтика-простака из фильма «Космос как предчувствие», что-то от находчивого контрразведчика из фильма «В августе 1944-го…» и так далее.
На контрасте напарник главного героя – космонавт Павел Беляев, вечно смурной и всем недовольный, каким его играет Константин Хабенский. Тут тоже без открытий, иногда кажется, что он перебарщивает с «плохим настроением» своего персонажа – ну невозможно всё время скрипеть зубами: «Сделаю, как прикажут».
По законам драматургии эти разные потенциалы сталкиваясь, рождают постоянные конфликты и курьёзы. Неплохой актёрский тандем, в котором всё же мне чего-то не хватило, чтобы безоговорочно поверить в дружбу не разлей вода.
Разумеется, фильм про космос обязан радовать глаз красивыми ракетными стартами и поражающим воображение падением спускаемого аппарата. Всё это в наличии. Ракета, как ей и положено, поднимается в небо вся в дыму, а железный шарик падает, объятый пламенем. Главное блюдо – выход в открытый космос – приготовлено со всем тщанием, демонстрируется как «космическая одиссея» 1965 года. Перед постановщиками стояла интересная инженерная задача – снять центральный эпизод фильма как можно эффектней и в то же время ни на миллиметр не уклониться от реальной партитуры, того как было на самом деле, ведь «кувыркания» Леонова от и до фиксировала кинокамера.
После «Звёздных войн» и «Гравитации» удивить чем-то сложно, тут авторам фильма пришлось идти между Сциллой и Харибдой, и документальность соблюсти и увлекательность не растерять. Поэтому заношу в рапорт: с заданием справились на «хорошо».
Фильм «Время первых» я смотрел с удовольствием – ставлю «общий зачёт», но слишком заметны в фильме родимые пятна современного российского кино, которые до боли напоминают недостатки.
Начнём с того, что произносимые актёрами реплики не всегда легко расслышать. Проблема эта не новая и является следствием комплекса причин.
Во-первых, это актёрская дикция. Увы, старой школы уже почти нет, а современные артисты полагают, что «и так сойдёт» — они же звёзды и зритель может потрудиться за них, напрячь слух. К сожалению, усилий зрителя бывает недостаточно, так как звук в ряде сцен писали вживую. Нелегко понять, о чём бубнят в скафандрах космонавты, приходится угадывать слова. Игра в натуральный звук простительна какому-нибудь «арт-хаусу», но в жанровом кино подобное техническое упрощение оставляет впечатление как от неряшливой, грязной работы.
Другой заметный недостаток это общее мельтешение образов, деталей, сюжетных поворотов, мизансцен и т.п. Иначе говоря, проблема киноязыка. Картина не сумела выделиться из среднего кинопотока оригинальным авторским взглядом. Фильму недостаёт художественной значительности. Вряд ли «Время первых» станет классикой, сомневаюсь, что фильм растащат на цитаты. Наоборот, детали иногда заимствованы из конструкторов разных стилей: смешной Брежнев взят из скетч-шоу, бытовые сцены с космонавтами – из мыльных сериалов, пафос – из советского кино большого стиля. Увы, но даже такая яркая метафора с зависанием маленького Алёши Леонова над ночным полем не рассеивает впечатления некоторой суетности картины.
Общим камертоном могла стать музыка, яркая запоминающаяся мелодия, а лучше всего песня. Её мотив логично было провести рефреном сквозь фильм – вполне в духе 1960-х годов. Музыка – прекрасный выразитель времени, она придаёт времени форму. Это же касается и времени самого фильма – тут музыка исполняет служебную роль, структурирует действие, расставляя собственные акценты в сюжете. Увы, саундтрек фильма «Время первых» грешит обычным для современного российского кино недостатком – он не запоминается. А это значит, что потеряна часть души фильма.
Не стану подробно разбирать мизансцены, которые могли быть выстроены иначе, драматургически острее и ярче по высказыванию. Например, в эпизоде, когда герой Евгения Миронова бежит наперерез чёрной «Волге». В этот момент решается судьба экипажа, но эпизод показан второпях. И, наоборот, репетиция проводов космонавтов, разыгранная для кинохроники, из-за своей невнятности и скомканности производит впечатление аппендикса, который можно удалить.
Все эти недостатки, мне кажется, результат того, что режиссёр Киселёв не нашёл своего авторского ключа к фильму. Многое в фильме «Время первых» смотрится вторичным, где-то уже виденным, повтором без переосмысления. Возможно, указанные в титрах шесть сценаристов просто утонули в биографическом и документальном материале, боясь расстаться с фактами. А в итоге – скороговорка.
Тем не менее, «Время первых» — фильм неплохой. И смотреть его нужно не только тем, кто ищет исторические несоответствия, технические ляпы и проколы драматургии. И не только убеждённым романтикам космоса. Он адресован всем, кто интересуется, как реальные герои истории превращаются в легенду. Жаль, конечно, что этот фильм не стал вровень с легендарной советской лентой «Укрощение огня». И не дотянулся до псевдо-документального фильма-мистификации «Первые на луне» (хоть и затянутого, но остроумного и необычайно выразительного). Ждём новых попыток…
Источник
Журнал «Все о Космосе»
Вечера науки с Константином Хабенским
Оригинал: Evenings of science with Konstantin Khabensky
Жанр: Discovery&BBC, документальные
Страна: США, Россия
Вышел: 2014
Ведущим этого невероятного кинопроекта является известный актер Константин Хабенский, впрочем, он стал вести сразу три проекта «Как устроена Вселенная», «Человек и Вселенная» и «Космос наизнанку». Им будет донесена самая последняя информация до зрителя с использованием удивительной графики, которая сможет дополнить речь ведущего соответствующим видео. Вместе с ведущим мы сможем наблюдать за всем происходящим словно находясь в кабине космолета. Мы сможем не просто посмотреть на объекты в космосе, но и узнать о его структуре, его происхождении. Зритель сможет отправиться к той самой черной дыре, которая расположена в центре галактики. Сможет оказаться в поле гравитации и не пострадать! Вы сможете узнать какой была Солнечная система в первое время её существования. С помощью компьютерного моделирования долгие года смогут превратиться в секунды, благодаря чему динамическая модель не оставит равнодушным ни одного зрителя! Формирование планет и их спутников, все это будет доступно. Ведь Константин Хабенский донесет эту информацию до нас в понятном для нас ключе и очень увлекательно!
Источник
Константин Хабенский: история «Дозоров» сейчас может быть востребованной
Актер Константин Хабенский, обладатель почетного звания «Народный артист РФ», остается одним из самых востребованных исполнителей. Он успевает сниматься в полнометражных российских фильмах и в сериалах, выходить на театральные подмостки в новых проектах и заниматься благотворительной деятельностью. В интервью ТАСС Хабенский рассказал о том, как пандемия повлияла на деятельность его фонда и что ему удалось переосмыслить за этот год, а также поделился идеями о дальнейшей судьбе героя «Дозоров» Антона Городецкого и удивился количеству ролей, которые сыграл за годы творческой деятельности.
— Прошлый год был, мягко говоря, не самым простым, в том числе для отечественного кинематографа — это отразилось и на количестве премьер. Тем не менее мы увидели как минимум три крупных релиза с вашим участием — «Трое», «Огонь», «Доктор Лиза», плюс несколько сериалов, в том числе «Нежность» и новый сезон «Метода». Вы представили настолько разные образы в этих картинах, что возникает вопрос: на что вы в первую очередь обращаете внимание, выбирая проекты?
— Я выбираю как раз так, чтобы проекты были разные, желательно с интересным режиссером, с которым мы могли бы общаться, разговаривать, которому я мог бы доверять, у которого были бы свои принципы относительно кино и, скажем так, по векторному направлению сопоставимые с моими принципами. Не хочется делать повторений, играть то, что я уже сыграл, те ситуации, в которых я уже бывал.
— В вашей фильмографии сейчас уже более ста ролей. Какие из них для вас особенно дороги?
— Вот я не считаю роли, когда услышал это число — ужаснулся.
— Как вы в принципе распределяете свое время между театром и кино? Трудовые подвиги — это про вас?
— Трудовые подвиги, я очень надеюсь, остались позади. Сейчас хочется работать последовательно: кино, театр, потом опять кино. Но это все моя теория того, как было бы неплохо делать. Практика и жизнь-злодейка подкидывают нам сюрпризы, от которых иногда просто невозможно отказаться, поэтому опять набираешь работы. Пандемия нам всем преподала такой урок, очень непростой, что ничто от тебя не убежит. Иногда нужно выдохнуть, успокоиться, подумать и идти дальше. Не надо все время находиться в состоянии поиска и бега.
— В одном из интервью вы сказали, что пандемия стала для вас периодом, когда вы смогли взять паузу в бесконечном рабочем потоке…
— Я имел возможность делать паузы и раньше, просто делал их небольшими. Эти паузы были, так скажем, робкими, не мхатовскими. Пандемия просто доказала, что да, это возможно.
— Возможно, вам за это время удалось что-то переосмыслить?
— Людей. Тех, которых знаешь, которые проявились с неожиданной стороны.
— Например, в пандемию вы вместе с другими артистами вошли в состав Мужского хора творцов (МХТ) имени Гагарина и представили несколько онлайн-проектов. Есть ли планы продолжать этот проект или провести творческий вечер уже офлайн?
— Мы ровно год — с 12 апреля по 12 апреля — в веселой дружной десятиголовой компании просуществовали с хорошим творческим наполнением и хорошим посылом с точки зрения финансовой и моральной помощи коллегам и цехам театра. Вроде бы времена прошли, но мы никуда не разбежались, и если что-то случится, то вновь соберемся, как мушкетеры. Другое дело, офлайн-история, которую писал вначале Игорь Верник, прекрасна, но здесь организационные бразды правления должны взять на себя другие представители команды, в том числе и автор этих замечательных стихов. А так бы я с удовольствием собрался с командой, почитал, мы бы посмеялись и пошутили.
— Сейчас Россия переживает, если можно так сказать, некий сериальный бум — постоянно снимаются и выходят новые проекты, в некоторых из них вы и сами принимаете участие. Остается ли время что-то при этом смотреть?
— Мне нужно время, чтобы погрузиться, я считаю неправильным смотреть что-то на перемотке. В этом смысле я консерватор и старовер. Контента сейчас очень много, даже профессионал не справится со всем, что выходит. Мне не кажется, что много чего-то посмотрел. Тем не менее многое на слуху. Например, «Псих» — я получил огромное удовольствие от этой работы, и режиссерской, и актерской, и сценарной. Это не единственное название, но просто я следил за ним, так как сценарием занималась Паулина Андреева, во время «Метода» мы периодически об этом говорили.
— На днях онлайн-кинотеатр ivi сообщил о том, что вы стали лицом бренда и уже представили в рамках коллаборации подборку любимых картин. Почему вы решили принять участие в этой кампании и какие ожидаются еще совместные проекты в рамках сотрудничества?
— Наши взгляды и ценности совпали. Потому что деятельность онлайн-кинотеатра напрямую относится к тому, чем я занимаюсь, чему я учился, связав свою жизнь с театром и кино.
Первый наш шаг — это создание специальной киноподборки. На платформе я делюсь со зрителем тем, что сам смотрел. И тем, что, как мне кажется, имеет право на существование. А также рекомендую те фильмы, которые сам еще не видел по каким-либо причинам, но собираюсь посмотреть. С командой ivi мы придумываем и готовим ряд историй, которые помогут пользователям и зрителям лучше ориентироваться в мире кино и в жизни онлайн-платформы. Мир меняется, многие процессы переходят в digital, и важно адаптироваться к новым реалиям, но сохраняя при этом основные человеческие ценности.
— Для меня одним из самых ярких зрительских впечатлений начала нулевых стали «Дозоры» и все еще самый крутой вампир в российском кинематографе Антон Городецкий. Регулярно появляются слухи о том, что фильм может получить продолжение. Согласились бы вы участвовать в третьей части? Особенно если учесть, что вы всегда ищете что-то новое, а это, скажем так, уже былое.
— Это разные вещи. Игорь Плахов (герой сериала «Убойная сила» — прим. ТАСС) и Родион Меглин (герой сериала «Метод» — прим. ТАСС) — это одно и то же, это криминальный сериал про человека, который расследует преступления, только я вошел в эти истории в разное время и, наверное, в разном качестве. С Антоном Городецким то же самое — это будет качественно другая история. Если — с удовольствием поделюсь своими мыслями, которые у меня накопились.
— В 2018 году вы впервые выступили в качестве режиссера в картине «Собибор». Сейчас, оглядываясь на эту историю, как вам кажется, оказался ли опыт режиссуры для вас чем-то, что хотелось бы повторить? И если да, какие истории хотели бы рассказать?
— Это сногсшибательный опыт, он отразился на мне как на актере в том числе, стал огромным ликбезом в стране кинематографии — как это делается, что, зачем, как это можно подправить, усилить. Я для себя открыл большой инструментарий, мне понравилось. Это было очень тяжело, но очень интересно. На мой взгляд, на тот момент, когда фильм вышел, я сделал на 95% всего того, что знал, умел и чувствовал. Возможно, сейчас это была бы другая история, но это вопрос того, что все мы либо развиваемся и двигаемся, либо стоим на одном месте. Интерес есть, идеи есть, другое дело, что реализовывать их надо не суетно, к ним надо готовиться. Мы никуда не торопимся.
— Вы бы хотели выступить только в качестве режиссера или сценариста тоже?
— Я не пишущий человек, могу выступить автором идеи, это другое дело. Для сценариев есть специальные люди, которые это умеют делать и делают это иногда очень лихо. Пока, после «Собибора», я вообще снимаюсь только как актер, без всяких амбиций на то, что мне теперь нужны только главные роли.
— Период всеобщего затишья как-то отразился на работе благотворительного фонда? Может, люди стали охотнее помогать, потому что появилось время подумать и расставить приоритеты, или, наоборот, пожертвований стало меньше из-за того, что многие оказались в сложной финансовой ситуации?
— Поначалу было очень сложно, потому что механизмы работы фонда отлажены в основном офлайн. Мы начали быстро осваиваться, чтобы понять, как работать с теми людьми, которые помогают фонду. Это было сложно. В какой-то момент мы подумали, что ежегодный бизнес-план фонда полетит в тартарары. Но не тут-то было. В какой-то момент он действительно полетел, но, видимо, очень правильно на людей подействовали эти вынужденные «каникулы», видимо, произошел момент остановки, ушла лишняя суета, и осенью мы собрали больше, чем планировали. Это было крайне неожиданно, но прекрасно, потому что это в основном частные пожертвования людей, которые решили, что надо и другим помогать в такое тяжелое время.
— Вы недавно перезапустили благотворительный спектакль «Поколение Маугли», вот буквально на днях состоялся показ. Есть ли хотя бы примерное понимание, какими будут сборы в этот раз?
— Этот спектакль оказался многострадальным, потому что мы планировали выпустить его 2 июня 2020 года. Произошло чудо, мы смогли удержать команду этих молодых и талантливых ребят на протяжении года. Мы репетировали в интернет-пространстве, придумывали, как сохранить постановку. Это другая, более взрослая история (благотворительный театральный проект «Поколение Маугли» существует с 2014 года — прим. ТАСС), она рассчитана не только на детей, но и на юношеское поколение, потому что в ней возникают темы любви, и прятаться от этого, я считаю, не надо. Постановка станет постоянной. Сейчас в коллективе более ста мальчиков и девочек, и я надеюсь, что это будет такой perpetuum mobile, к которому смогут присоединиться мои коллеги из театра, звездные приглашенные актеры.
— Будете ли отправлять проект на гастроли?
— Меня волнует не только содержание и качество спектакля, но еще и сборы, потому что они напрямую идут на помощь нашим подопечным. Ездить на гастроли и фестивали для того, чтобы показать себя, я считаю неправильным. Это может делать любой другой спектакль. Вывозить группу на гастроли дорого, а этот спектакль должен зарабатывать хорошие отзывы и хорошую кассу, чтобы помогать спасению жизней. На премьеру в «Крокусе» были приглашены те ребята и девчонки, средства на лечение которых поступали от этого спектакля пять-шесть лет назад. У нас в конце спектакля на большом экране показывают фотографии тех детей, для которых мы работаем.
— Это, безусловно, очень духоподъемная история… Но ведь помочь получается не всем, у кого-то болезнь побороть не удается. Как вы это переживаете?
— Процент выздоровления очень большой, тем более у детей. Я, конечно же, общаюсь с некоторыми подопечными — со всеми общаться просто нет возможности, — но у нас в команде больше двадцати человек в штате, я уже не говорю о волонтерах. Если происходят трагические моменты, подключаются наши психологи, другие департаменты, чтобы помочь. Это жизнь, ничего другого я тут сказать не могу. Но мы не опускаем руки, мы это переживаем, мы идем дальше, потому что есть люди, которым нужна помощь.
— Возвращаясь к творчеству: на объявлении планов сезона худрук МХТ Сергей Женовач сообщил, что вы сыграете роль барона Мюнхгаузена в постановке Виктора Крамера. На каком этапе сейчас этот проект?
— У нас был зимний блок, застольно-фантазийный период, когда мы еще раз «мяли» ту композицию, которую сложили ранее. По завещанию барона мы шутили, баловались, фантазировали — и все. Сейчас в июне мы начнем уже раскладывать что-то похожее на мизансцены. Осенью — третий период, а в октябре мы выпускаемся.
— Можно ли уже говорить, каким будет этот образ?
— Пока нет, роль фантазийная. Я пока думаю над ней.
— Запланированы ли у вас другие проекты на сцене МХТ или в других театрах?
— Я вернулся недавно из Барнаула, где к столетию Театра драмы имени Шукшина режиссер Данил Чащин, автор Александр Цыпкин и художественный руководитель — ваш покорный слуга — выпустили очень интересный, человечный и содержательный спектакль под названием «Интуиция». Было три премьеры, по-моему, в зрителя попали все три. Это монологи людей, которые оказались на том свете, первые минуты их существования там. Несмотря на то что это монологи людей, которых с нами уже нет, спектакль оказался созидательным и позитивным для тех, кто сидит в зрительном зале. Те сожаления, которые звучат в монологах, очень понятны аудитории.
— Приедет ли спектакль в Москву?
— Мы его здесь поставим. Сейчас выдохнем, подумаем о площадке, об актерском составе и сделаем. Он красивый, он имеет право быть в любом репертуарном театре города Москвы. Отвечу так нагло, хотя мои друзья знают, что я так не отвечаю, если в чем-то не уверен.
Беседовала Валерия Высокосова
Источник