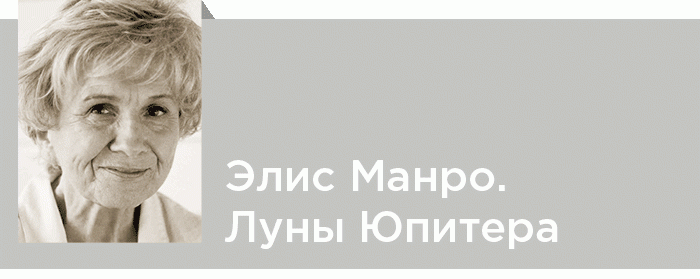Элис манро луны юпитера
О Шадделеях и Флемингах
Кузина Айрис, из Филадельфии. Работала медицинской сестрой. Кузина Изабель, из Де-Мойна. Владела цветочной лавкой. Кузина Флора, из Виннипега, учительница. Кузина Уинифред, из Эдмонтона, бухгалтерша. Одинокие дамы, говорили о них. Термин «старые девы» в данном случае не подходил — такому определению они не отвечали. У каждой был тяжелый, могучий бюст — бронированный монолит — и стянутые корсетом живот и пышные ягодицы, каким позавидовали бы замужние матроны. В те дни считалось, что женское тело должно быть крупным и дебелым, не менее чем двадцатого размера, а иначе жизнь прожита напрасно; с течением времени, в зависимости от общественного положения и собственных устремлений, такие женщины либо обвисали и дряхлели, растекались, как заварной крем, под выцветшими ситцевыми платьями и вечно влажными фартуками, либо утяжкой придавали себе такие формы, которые, невзирая на упругие изгибы и гордые покатости, ничем не напоминали о плотских радостях, а напоминали только о правах и власти.
Моя мать и ее кузины относились ко второму типу. Они засупонивали себя в корсеты, которые застегивались с одного боку на десятки крючков, носили чулки, издававшие — стоило только скрестить лодыжки — сухой скрежет, во второй половине дня переодевались в трикотажные шелковые платья (мамино досталось ей от кого-то из кузин), не скупились на пудру (рашель), сухие румяна, одеколон и забирали волосы натуральными — или не совсем — черепаховыми гребнями. Маминых двоюродных сестер можно было вообразить только в таком виде; ну, или еще закутанными по самый нос в стеганые атласные халаты. Нашей маме трудно было за ними угнаться: для этого требовались неимоверные усилия, самоотверженность, изобретательность. А кто ценил такой шик? Да она же и ценила.
Как-то летом мамины кузины приехали к нам погостить. А привело их в наш дом то, что мама, единственная из всех, была замужем и могла принять у себя всех разом, но при этом не имела средств, чтобы самой ездить в гости. Жили мы в Далглише, что в округе Гурон, в западной части провинции Онтарио. На щите, установленном перед въездом в городок, значилась численность населения: 2000 человек.
— Теперь стало две тысячи четыре, — вскричала кузина Айрис, вываливаясь из водительской дверцы «олдсмобиля» 1939 года выпуска.
Она заезжала в Виннипег за Флорой и Уинифред, которые прибыли поездом из Эдмонтона. А потом они втроем отправились в Торонто за Изабел.
— И мы вчетвером наведем больше шороху, чем две тысячи, вместе взятые, — подхватила Изабел. — Где это было, в Оранджвилле, кажется? Мы так ржали, что Айрис пришлось остановить машину. А то мы бы точно в кювет угодили!
Ступени заскрипели под их весом.
— Дышите этим воздухом! Ничего нет лучше деревенского воздуха. А это что, помпа для воды? Чудесно было бы сейчас утолить жажду, верно? Испить ключевой водицы!
Мама велела мне принести стакан, но кузины решили во что бы то ни стало напиться из жестяной кружки.
Они стали рассказывать, как по дороге к нам Айрис побежала в траву помаленькому, а подняв голову, увидела, что ее взяли в кольцо любопытные коровы.
— Если бы коровы! — запротестовала Айрис. — Волы.
— Быки, если ты не разглядела, — поправила, опускаясь в плетеное кресло, Уинифред.
Она была самой тучной.
— Ну, быки. Что ж я, быков не знаю? — возмутилась Айрис. — Надеюсь, Уинифред, мебель здесь повышенной прочности. Ну, доложу я вам: у моей бедной машины задний мост совсем просел. Быки! Вот кошмар — уж не знаю, как я панталоны натянула!
Потом они стали рассказывать про совершенно дикий городишко на севере Онтарио, где Айрис даже не разрешила им выйти из машины, чтобы купить кока-колы. Посмотрела на лесорубов и завопила: «Да нас тут всех изнасилуют!»
— Как это «изнасилуют»? — не поняла моя младшая сестренка.
— Фу ты, — спохватилась Айрис. — Портмоне сопрут.
«Портмоне» — диковинное словцо. Мы со старшей сестрой его тоже не знали, но задавать два вопроса подряд нам не разрешалось. Впрочем, я догадывалась, что изнасилование — это нечто совсем другое. Что-то грязное.
— Кошелек. Кошелек отнимут, — сказала мама радостным, но вместе с тем предостерегающим тоном. У нас в доме вольностей не допускали.
Настало время распаковывать гостинцы. Кофе, орешки и финиковый пудинг в жестяных банках, устрицы, маслины, а для папы — фабричные сигареты. Все кузины, кроме Флоры, учительницы из Виннипега, были заядлыми курильщицами. В ту пору курение считалось шиком; но в Далглише его рассматривали как весьма вероятный признак падения нравов. У наших тетушек этот порок выглядел респектабельной роскошью.
Из свертков появились также чулки, шарфики, маркизетовая блузка для мамы, пара крахмальных белых кружевных фартучков для нас с сестрой (возможно, последний писк моды в Де-Мойне или Филадельфии, но полная несуразность в Далглише, где нас все время спрашивали, почему мы на людях не снимаем фартуки). И наконец, двухкилограммовая коробка шоколадных конфет. Долгое время после отъезда тетушек, когда конфеты давным-давно были съедены, мы все еще хранили эту коробку в ящике стоявшего в гостиной комода, вместе с постельным бельем — берегли ее для торжественного случая, которого так и не представилось. В ней остались пустые формочки от конфет, изготовленные из темной гофрированной бумаги. Зимой я нет-нет да и проскальзывала в нетопленую гостиную и утыкалась носом в эти бумажные формочки, упиваясь запахом чуда и богатства; вновь и вновь я читала названия на внутренней стороне крышки: лесной орех, сливочная нуга, рахат-лукум, золотистое пралине, перечная мята.
Кузинам отвели нижнюю спальню и выдвижную кровать в верхней гостиной. Душными ночами они, недолго думая, вытаскивали матрасы на веранду, а то и во двор. Гамак разыгрывали по жребию. Уинифред от жребия отстранили. В доме за полночь было слышно, как они хихикают, шикают друг на дружку, выкрикивают: «Что-что?» Уличных фонарей вблизи нашего дома не было, и тетушки поражались темноте и обилию звезд.
А однажды затянули хоровую песню:
Плеск, плеск, плеск весла.
Лодку качнет на волне.
Речка бежит весела, весела,
Жизнь летит, как во сне.
Далглиш виделся им ненастоящим. Они ездили в центр, а потом рассказывали о причудах лавочников и передразнивали услышанные на улице разговоры. По утрам дом наполнялся незнакомым американским благоуханием подаренного ими кофе, а тетушки интересовались, не осенил ли кого-нибудь план на сегодняшний день. Как-то раз они надумали отправиться в лес по ягоды. Там они исцарапались с головы до ног, перегрелись на жаре, а Уинифред вдобавок запуталась в колючих кустах и стала истошно звать на помощь; и тем не менее они повторяли, что отдохнули на славу. В другой раз им втемяшилось взять у моего отца удочки и пойти на рыбалку. Вернувшись домой, они предъявили свой улов — ершей, которых у нас было заведено выбрасывать в речку. Бывало, устраивали пикники. А то еще одевались во всякое рванье — старые соломенные шляпы, негодные отцовские комбинезоны — и так фотографировались. Они пекли многослойные торты и готовили удивительные фигурные салаты, формой как пагоды и будто усыпанные самоцветами.
В один прекрасный день кузины организовали концерт. Айрис изображала оперную диву. Набросив на плечи снятую со стола скатерть, она послала меня в курятник за перьями, чтобы украсить прическу. А потом исполнила арию Роз-Мари и «Сердце красавицы». Уинифред, заранее прикупив себе водяной пистолет, переоделась налетчицей. Каждому нужно было подготовить какой-нибудь номер. Мы со старшей сестрой выбрали для себя вокал: «Желтую розу Техаса» и Малое славословие. Но всех сразила наша мама: надев папины брюки, она долго стояла на голове.
Днями напролет — а случалось, и ночью — кузины были сами себе и артистками, и зрительницами. Флора, к примеру, разговаривала во сне. Поскольку она была самой манерной и осмотрительной, другие только и ждали, чтобы забросать ее вопросами и вынудить к какому-нибудь позорному ответу. Внушали ей, будто она сквернословит. Говорили, что ночью она села в кровати и сурово спросила: «Куда, черт бы вас подрал, завалился мел?»
К ней я тянулась меньше, чем к остальным, потому что она все время заставляла нас с сестрой решать в уме задачки. «Если семь кварталов можно пройти за семь минут, причем пять кварталов — одинаковой длины, а два других вдвое длиннее…»
— Ой, иди утопись, Флора! — говорила ей Айрис, наиболее языкастая из всех.
Когда озарение их не посещало или жара отбивала охоту к забавам, кузины устраивались на веранде и пили фруктовый пунш, лимонад, имбирную шипучку или холодный чай с вишнями в ликере и кусочками льда, отколотыми от хранившейся в леднике глыбы. Иногда мама украшала для них стаканы, обмакивая краешки во взбитые яичные белки, а потом в сахарный песок. Кузины твердили, что лишились последних сил и ни на что не годны, но в их сетованиях сквозило довольство, как будто летняя жара для того и была создана, чтобы добавлять в их жизнь драматизма.
Источник
Элис Манро. Луны Юпитера
Е. Любимова
Известность пришла к Элис Манро (род. в 1931 году) на рубеже 60-70-х, вскоре после опубликования сборников рассказов «Танец счастливых теней» (1968) и «Я собираюсь тебе что-то сказать» (1973). С тех пор писательница выпустила всего пять книг: по собственному признанию, она привыкла работать кропотливо и неспешно.
Сложившаяся за полтора десятилетия писательская репутация Манро — негромкая, лишенная и грамма сенсационности — представляется достаточно стабильной. Различные по тональности, авторскому отношению к происходящему, они напоминают фрагменты обширной повести, а в тех случаях, когда Манро обращается к жанру «малого романа» («Нищенка», 1980), результат получается сходный — она намеренно расчленяет повествовательную ткань на самостоятельные отрывки, и их внутренняя общность скорее угадывается, чем проступает на поверхность.
Своим художественным принципам писательница осталась верна и в последнем сборнике рассказов: «Луны Юпитера» — повесть в новеллах, небольшое мозаичное панно. Композиция сборника строго продумана и «закольцована»: открывающие его новеллы «Связь» и «Камень в поле» (составившие цикл «Чэддли и Флеминги») тематически и эмоционально сопряжены с заключительным рассказом, чье название вынесено в заглавие книги. Не изменился и излюбленный писательницей ландшафт — фермы в предместьях и улочки в маленьких, уныло-однообразных провинциальных городках Джубили и Западный Ханретти, неотличимых от ее родного Винхэма. Лишь изредка по контрасту события в «Лунах Юпитера» развертываются в шумной толчее торонтских кварталов или переносятся в далекую Австралию («Автобус Бардон»).
Зрелая проза Манро артистична, и в сборнике это прежде не слишком заметное качество выявляется в полной мере. Ее новые рассказы воспринимаются как развернутые этюды о неожиданных воплощениях и разных ипостасях женской души: от юных лет до глубокой старости. Характеры героинь несходны: что, в самом деле, общего между беззаботной, добродушной Прю (в одноименном рассказе) и смятенной, не уверенной в себе молодой учительницей музыки Фрэнсис («Происшествие»)? Близость их обнаруживается не сразу, как не сразу становится понятным и программное значение двух первых, откровенно автобиографичных новелл. Нетрудно догадаться только, что безымянная героиня рассказов «Связь» и «Камень в поле», воскрешающая в памяти детские впечатления, — alter ego самой Элис Манро. В следующих новеллах «Сезон уток», «Происшествие», «Автобус Бардон» личностное начало постепенно убывает, уступая место объективированному повествованию о счастливо и несчастливо сложившихся (вторые явно преобладают) женских судьбах, а подчас, как в рассказе о поэтессе Лидии — ровеснице Манро («Далей»), — более или менее зашифрованной «духовной автобиографии». В финальной новелле «Луны Юпитера» автобиографичность с горькой лирической нотой опять вытесняет рассказ от третьего лица; героиня узнает о смертельной болезни отца и накануне предстоящей ему операции открывает для себя несложную, но жизненно необходимую истину: ее путь в литературе, да и все ее сознательное существование были предопределены его самобытной, но так окончательно и не реализовавшейся личностью.
Так, многочисленные тетушки безымянной повествовательницы в рассказах «Связь» и «Камень в поле» — это , не только два родовых «куста», но прежде всего два клана. По вечерам они устраивали концерты, импровизировали, а однажды разыграли самый натуральный вестерн с погонями и перестрелкой.
«Кузины», как их привычно именует рассказчица, независимы и любознательны, работать они начали смолоду (одна — сиделкой в больнице, другая — продавщицей в цветочном магазине, третья — учительницей в колледже) и смолоду свыклись с мыслью, что сами отвечают за себя. Замуж они не стремились, да, судя по брошенной вскользь реплике героини-повествовательницы, так и не вышли, однако ничем не напоминали старых дев, наоборот, казались ей воплощением женственности и жизнерадостности. Но когда, спустя двадцать лет, героине доводится встретиться с одной из теток — Айрис, детский идеал безвозвратно меркнет, не выдержав испытания временем и действительностью: без устали болтающая о пустяках, расплывшаяся пожилая дама вызывает у племянницы не сочувствие, а только брезгливую жалость и досаду.
Совсем иной облик у сестер отца героини («Камень в поле»): угрюмая стая одетых в темные платья женщин неопределенного возраста являет собой полную противоположность «кузинам». Тетки по отцовской линии всю жизнь прожили на ферме, и замкнутость стала для них единственной возможной формой существования. Даже поездка в ближайший город — событие для этих «реликтов», как окрестил их брат. Они упрямо не признают машин, обходясь допотопной крытой повозкой, в которую запряжена понуро плетущаяся лошадь. Одна из сестер вообще не покидает своей комнаты, скрываясь там от редких гостей. С утра до ночи, не покладая рук, трудятся они на ферме: сами месят тесто и пекут хлеб, ткут на старом станке, белят стены. Странность, подчеркнутая архаичность облика и ощущение постоянного холода, «вечной мерзлоты» души — вот, пожалуй, и все, что осталось от чудаковатых теток в памяти родни. Но вряд ли случайно в судьбу младшей из них вплелась романтическая легенда о любви к бездомному бродяге — то ли немцу, то ли датчанину, — нашедшему себе пристанище на ферме. Неизвестно, от чего он бежал, почему все годы, подобно сестрам, дичился соседей и довольствовался малым. Лишь надгробный камень на месте его лачуги удостоверяет это призрачное как сон существование.
С годами сама героиня, удивляясь и недоумевая, почувствовала, что нити, связывающие ее с семейными традициями Флемингов, не оборвались и не истлели. И гордая неуступчивость, и приверженность к прошлому, доходящая до своего рода культа, и деликатность, облеченная в какую-то окостеневшую оболочку, проросли и ожили в ней, причудливо соединившись с фамильными чертами Чэддли (т. е. материнской родни) — отзывчивостью, эмоциональной раскованностью, готовностью к переменам.
Сходный психологический «чэддли-флеминговский» сплав настороженности и открытости, ухода в себя и потребности в общении, доверчивости и мнительности присущ и героиням центральных новелл сборника, казалось бы, отделенным от рассказчицы «заслонами» иных биографий, воспитания, профессий, привычек. Уроки музыки, репетиции хора, домашние хлопоты давно стали рутиной для Фрэнсис («Происшествие»). Она еще молода, но с каждым месяцем все острее чувствует «утечку» времени, его необратимый ход, ускользающие возможности, засасывающие, погружающие в состояние духовного анабиоза ритмы провинциальной жизни. Отсюда и попытки не очень красивой, тщетно старающейся побороть резкостью и насмешливостью природную застенчивость женщины хоть как-то самоутвердиться, обрести точку опоры. И тщательно скрываемая от окружающих привязанность Фрэнсис к Теду Маккавала — преподавателю-фннну, которого вместе с женой и четырьмя детьми забросили в Канаду превратности военного времени (действие рассказа обозначено 1912 годом).
Тед — человек незаурядный и сложный, не так давно он пережил серьезный идейный кризис, разочаровался в перспективах рабочего движения. Новая родина встретила его неласково, в колледже у Теда стойкая репутация «красного смутьяна», желающего взбаламутить Канаду социалистическими идеями. Ощущение неприкаянности усугубляется мучительным разобщением, нарастающим в семейной жизни героя. Фрэнсис понимает, однако, что, несмотря на обычные в подобной ситуации слова о «долге» перед детьми, сила притяжения Теда к семейному очагу мощнее силы отталкивания. Так и тянулась бы ее жизнь от одного тайного, торопливого свидания в полутьме кабинета биологии (и место-то выбрано символическое) до другого, так и разбивалось бы ее чувство о его нерешительность, если бы не трагическая случайность, вопреки очевидности соединившая их судьбы.
Заигравшийся на улице с друзьями младший сын Теда гибнет, попав под машину. Дальнейшее происходит, в сущности, помимо воли обоих. На похороны съезжается родня жены, всегда недолюбливавшая «отщепенца» и атеиста Теда. В считанные часы его золовка Картруд — классическая агрессивная ханжа — оказывается в курсе его романа и предъявляет неверному деверю ультиматум. Долго крепившийся Тед не выдерживает, заявляет, что уходит из дому, и в тот же вечер делает Фрэнсис предложение.
Разделить радость героини этим неожиданным исходом неразрешимой, казалось бы, ситуации читателю мешает существенный эмоционально-этический обертон, далеко не случайный в контексте художнического замысла Манро: писательница не скрывает, что решающим толчком для героя явилось не столько его любовное чувство, сколько ужесточившееся давление среды и в еще большей степени — ощущение собственной, хотя и невольной, вины (мальчик погиб во время его свидания с Фрэнсис). Эта тревожно-амбивалентная нота заметно корректирует номинально благополучный финал рассказа, завершающегося «ретроспективными» размышлениями Фрэнсис спустя три десятилетия, проведенных в браке с Тедом — если не счастливом, то умиротворенно-спокойном: «К чему гадать, как бы все устроилось. Нам не пришлось выбирать. Катастрофа решила за нас. Какая разница? Есть то, что есть».
Иным настроением проникнут рассказ «Прю». Его атмосфера светлее: взгляд героини на жизнь одновременно и более трезв, и более оптимистичен, нежели у Фрэнсис: она не склонна предаваться ни иллюзиям, ни надеждам на чудесное вмешательство извне. Да и по возрасту она годится рассказчице «Происшествия» чуть ли не в матери. Сорокапятилетней Прюденс, предпочитающей называть себя «Прю», продавщице в цветочном магазине (у нее и профессия та же, что у одной из «кузин» Чэддли), сомнения и тревоги Фрэнсис показались бы надуманными, зряшными, не стоящими нервных затрат. Человек она по натуре легкий, излишними рефлексиями себя не обременяет, к веселым и печальным событиям жизни относится как к серии анекдотов. И сам рассказ короткий, динамичный,, остроумный, на первый взгляд напоминающий бытовой анекдот, вот только развязка у него садняще грустная.
Многолетняя связь Прю с врачом Гордоном устраивала и его, и ее: ни проблем, ни слез, ни упреков, ни ревности — прекрасное времяпрепровождение: взрослые как-никак люди, успели узнать, что к чему. Гордон собрался было предложить Прю узаконить их отношения, но тут случилось нечто, разрушившее его планы. В разгар их уединенного ужина в его комфортабельном загородном доме в комнату ворвалась молоденькая девушка, в сравнении с Прю совсем девчонка, и в гневе запустила в него туго набитой сумкой. Поранила доктору руку, испортила вечер, и он так и не понял, чем перед ней провинился. Перед ней, а может быть, и перед Прю.
Наутро Прю навсегда покинула Гордона, прихватив с собой его янтарные запонки (он любил красивые вещи, а она, сама того не сознавая, любила его — вот и сквитались). Вернувшись к себе, она положила запонки в старую табакерку и вскоре. забыла о них.
Разговорно-бытовая тональность этого рассказа отодвигает его на полюс, противоположный психологически изощренному «Происшествию». Манро не стремится ни осудить, ни, напротив, оправдать свою героиню, она предоставляет читателям решить, победило ли в хохотушке Прю пуритански суровое «флеминговское начало», или она поступила подобно близким ей по духу «кузинам» Чэддли.
Как и прежде в творчестве писательницы, тема одиночества занимает одно из центральных мест в «Лунах Юпитера». Однако, как бы далеко ни разводила жизнь отцов и детей, возлюбленных, друзей, Элис Манро отказывается принять человеческую разобщенность как естественную норму существования. Сострадая своим героям, подтрунивая над их слабостями, но не прощая им анемии чувств, добровольного самоотторжения от «малой» — семейной, — а в итоге и «большой» — национальной — истории, она настойчиво ищет звенья, связующие разные судьбы и характеры.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1986. – Вып. 5. – С. 31-35.
Источник